|
|
МЕНЮ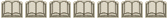 РЕКЛАМА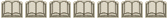 ИНТЕРЕСНОЕ 
|
Жизнь двенадцати цезарей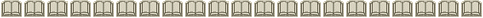 Жизнь двенадцати цезарейКультура ЖИЗНЬ ДВЕНАДЦАТИ ЦЕЗАРЕЙ Выполнил: Горщевский Сергей E-mail:gsamail@mail.ru Содержание БОЖЕСТВЕННЫЙ ЮЛИЙ 3 БОЖЕСТВЕННЫЙ АВГУСТ 4 ТИБЕРИЙ 5 ГАЙ КАЛИГУЛА 6 БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ 8 НЕРОН 9 ГАЛЬБА 10 отон 11 ВИТЕЛЛИЙ 12 БОЖЕСТВЕННЫЙ ВЕСПАСИАН 13 БОЖЕСТВЕННЫЙ Т И Т 14 ДОМИЦИАН 15 БОЖЕСТВЕННЫЙ ЮЛИЙ На шестнадцатом году он потерял отца. Год спустя, уже назначенный жрецом Юпитера, он расторг помолвку с Коссуцией, девушкой из всаднического, но очень богатого семейства, с которой его обручили еще подростком,— и женился на Корнелии, дочери того Цинны, который четыре раза был консулом. Вскоре она родила ему дочь Юлию. Диктатор Сулла никакими средствами не мог добиться, чтобы он развелся с нею. Поэтому, лишенный и греческого сана, и жениного приданого, и родового наследства, он был причислен к противникам диктатора и даже вынужден скрываться. Несмотря на мучившую его перемежающуюся лихорадку, он должен был почти каждую ночь менять убежище, откупаясь деньгами от сыщиков, пока, наконец, не добился себе помилования с помощью девственных весталок и своих родственников и свойственников — Мамерка Эмилия и Аврелия Котты. Сулла долго отвечал отказами на просьбы своих преданных и видных приверженцев, а те настаивали и упорствовали; наконец, как известно, Сулла сдался, но воскликнул, повинуясь то ли божественному внушению, то ли собственному чутью: «Ваша победа, получайте его! но знайте: тот, о чьем спасении вы так стараетесь, когда-нибудь станет погибелью для дела оптиматов, которое мы с вами отстаивали: в одном Цезаре таится много Мариев!» Оставив надежду получить провинцию, он стал домогаться сана великого понтифика с помощью самой расточительной щедрости. При этом он вошел в такие долги, что при мысли о них он, говорят, сказал матери, целуя ее утром перед тем, как отправиться на выборы: «или я Вернусь понтификом, или совсем не вернусь». И действительно, он настолько пересилил обоих своих опаснейших соперников, намного превосходивших его и возрастом и положением, что даже в их собственных трибах он собрал больше голосов, чем оба они во всех вместе взятых. Говорят, будто он боялся, что ему придется дать ответ за все, что он совершил в свое первое консульство вопреки знаменьям, законам и запретам: ведь и Марк Катон не раз клятвенно заявлял, что привлечет его к суду тотчас, как он распустит войско, и в народе говорили, что, вернись он только частным человеком, и ему, как Милону, придется защищать себя в суде, окруженном вооруженной охраной. Это тем правдоподобнее, что и Азиний Поллион рассказывает, как Цезарь при Фарсале, глядя на перебитых и бегущих врагов, сказал дословно следующее: «Они сами этого хотели! меня, Гая Цезаря, после всего, что я сделал, они объявили бы виновным, не обратись я за помощью к войскам!» Некоторые, наконец, полагают, что Цезаря поработила привычка к власти, и поэтому он, взвесив свои и вражеские силы, воспользовался случаем захватить верховное господство, о котором мечтал с ранних лет. Так думал, по-видимому, и Цицерон, когда в третьей книге «Об обязанностях» писал, что у Цезаря всегда были на устах стихи Еврипида, которые он переводит так: Коль преступить закон — то ради царства; А в остальном его ты должен чтить. Зрелища он устраивал самые разнообразные: и битву гладиаторов, и театральные представления по всем кварталам города и на всех языках, и скачки в цирке, и состязания атлетов, и морской бой. В гладиаторской битве на форуме бились насмерть Фурий Лептин из преторского рода и Квинт Кальпен, бывший сенатор и судебный оратор. Военный танец плясали сыновья вельмож из Азии и Вифинии. В театре римский всадник Децим Лаберий выступал в миме собственного сочинения; получив в награду пятьсот тысяч сестерциев и золотой перстень, он прямо со сцены через орхестру прошел на свое место в четырнадцати первых рядах. На скачках, для которых цирк был расширен в обе стороны и окружен рвом с водой, знатнейшие юноши правили колесницами четверней и парой и показывали прыжки на лошадях. Троянскую игру исполняли двумя отрядами мальчики старшего и младшего возраста. Звериные травли продолжались пять дней; в заключение была показана битва двух полков по пятисот пехотинцев, двадцать слонов и триста всадников с каждой стороны; чтобы просторнее было сражаться, в цирке снесли поворотные столбы и на их месте выстроили два лагеря друг против друга. Атлеты состязались в течение трех дней на временном стадионе, нарочно сооруженном близ Марсова поля. Для морского боя было выкопано озеро на малом Кодетском поле: в бою участвовали битремы, триремы и квардиремы тирийского и египетского образца со множеством бойцов. На все эти зрелища отовсюду стеклось столько народу, что много приезжих ночевало в палатках по улицам и переулкам; а давка была такая, что многие были задавлены до смерти, в том числе два сенатора. Затем он обратился к устройству государственных дел. Он исправил календарь: из-за нерадивости жрецов, произвольно вставлявших месяцы и дни, календарь был в таком беспорядке, что уже праздник жатвы приходился не на лето, а праздник сбора винограда — не на осень. Он установил, применительно к движению солнца, год из 365 дней и вместо вставного месяца ввел один вставной день через каждые четыре года. Чтобы правильный счет времени велся впредь с очередных январских календ, он вставил между ноябрем и декабрем два лишних месяца, так что год, когда делались эти преобразования, оказался состоящим из пятнадцати месяцев, считая и обычный вставной, также пришедшийся на этот год. Говорят, он был высокого роста, светлокожий, хорошо сложен, лицо чуть полное, глаза черные и живые. Здоровьем он отличался превосходным: лишь под конец жизни на него стали нападать внезапные обмороки и ночные страхи, да два раза во время занятий у него были приступы падучей. За своим телом он ухаживал слишком даже тщательно, и не только стриг и брил, но и выщипывал волосы, и этим его многие попрекали. Безобразившая его лысина была ему несносна, так как часто навлекала насмешки недоброжелателей. Поэтому он обычно зачесывал поредевшие волосы с темени на лоб; поэтому же он с наибольшим удовольствием принял и воспользовался правом постоянно носить лавровый венок. Среди его любовниц были и царицы — например, мавританка Эвноя, жена Богуда: и ему и ей, по словам Назона, он делал многочисленные и богатые подарки. Но больше всех он любил Клеопатру: с нею он и пировал не раз до рассвета, на ее корабле с богатыми покоями он готов был проплыть через весь Египет до самой Эфиопии, если бы войско не отказалось за ним следовать; наконец, он пригласил ее в Рим и отпустил с великими почестями и богатыми дарами, позволив ей даже назвать новорожденного сына его именем. Некоторые греческие писатели сообщают, что этот сын был похож на Цезаря и лицом и осанкой. Марк Антоний утверждал перед сенатом, что Цезарь признал мальчика своим сыном и что это известно Гаю Матию, Гаю Оппию и другим друзьям Цезаря; однако этот Гай Оппий написал целую книгу, доказывая, что ребенок, выдаваемый Клеопатрой за сына Цезаря, в действительности вовсе не сын Цезаря (как будто это нуждалось в оправдании и защите). Народный трибун Гельвий Цинна многим признавался, что у него был написан и подготовлен законопроект, который Цезарь приказал провести в его отсутствие: по этому закону Цезарю позволялось брать жен сколько угодно и каких угодно, для рождения наследников. Наконец, чтобы не осталось сомнения в позорной славе его безнравственности и разврата, напомню, что Курион-старший в какой-то речи называл его мужем всех жен и женою всех мужей. В заговоре против него участвовало более шестидесяти человек; во главе его стояли Гай Кассий, Марк Брут и Децим Брут. Сперва они колебались, убить ли его на Марсовом поле, когда на выборах он призовет трибы к голосованию,— разделившись на две части, они хотели сбросить его с мостков, а внизу подхватить и заколоть,— или же напасть на него на Священной дороге или при входе в театр. Но когда было объявлено, что в иды марта сенат соберется на заседание в курию Помпея, то все охотно предпочли именно это время и место. Он погиб на пятьдесят шестом году жизни и был сопричтен к ботам, не только словами указов, но и убеждением толпы. Во всяком случае, когда во время игр, которые впервые в честь его обожествления давал его наследник Август, хвостатая звезда сияла в небе семь ночей подряд, появляясь около одиннадцатого часа, то все поверили, что это душа Цезаря, вознесенного на небо. Вот почему изображается он со звездою над головой. В курии, где он был убит, постановлено было застроить вход, а иды марта именовать днем отцеубийственным и никогда в этот день не созывать сенат. Из его убийц почти никто не прожил после этого больше трех лет и никто не умер своей смертью. Все они были осуждены и все погибли по-разному: кто в кораблекрушении, кто в битве. А некоторые поразили сами себя тем же кинжалом, которым они убили Цезаря. БОЖЕСТВЕННЫЙ АВГУСТ Август родился в консульство Марка Туллия Цицерона и Гая Антония, в девятый день до октябрьских календ, незадолго до рассвета, у Бычьих голов в палатинском квартале, где теперь стоит святилище, основанное вскоре после его смерти. Действительно, в сенатских отчетах записано, что некто Гай Леторий, юноша патрицианского рода, обвиненный в прелюбодействе, умоляя смягчить ему жестокую кару из внимания к его молодости и знатности, ссылался перед сенаторами и на то, что он является владельцем и как бы блюстителем той земли, которой коснулся при рождении божественный Август, и просил помилования во имя этого своего собственного и наследственного божества. Тогда и было постановлено превратить эту часть дома в святилище. Он пересмотрел старые законы и ввел некоторые новые: например, о роскоши, о прелюбодеянии и разврате, о подкупе, о порядке брака для всех сословий. Этот последний закон он хотел сделать еще строже других, но бурное сопротивление вынудило его отменить или смягчить наказания, дозволить трехлетнее вдовство и увеличить награды. Но и после этого однажды на всенародных играх всадники стали настойчиво требовать от него отмены закона; тогда он, подозвав сыновей Германика, на виду у всех посадил их к себе и к отцу на колени, знаками и взглядами убеждая народ не роптать и брать пример с молодого отца. А узнав, что некоторые обходят закон, обручаясь с несовершеннолетними или часто меняя жен, он сократил срок помолвки и ограничил разводы. Однажды в цирке во время обетных игр он занемог и возглавлял процессию, лежа на носилках. В другой раз, когда он открывал праздник при освящении театра Марцелла, у его консульского кресла разошлись крепления, и он упал навзничь. На играх, которые он давал от имени внуков, среди зрителей вдруг началось смятение — показалось, что рушится амфитеатр; тогда, не в силах унять их и образумить, он сошел со своего места и сам сел в той части амфитеатра, которая казалась особенно опасной. Что касается пищи — я и этого не хочу пропустить,— • то ел он очень мало и неприхотливо. Любил грубый хлеб, мелкую рыбешку, влажный сыр, отжатый вручную, зеленые фиги второго сбора; закусывал и в предобеденные часы, когда и где угодно, если только чувствовал голод. Вот его собственные слова из письма: «В одноколке мы подкрепились хлебом и финиками». И еще: «Возвращаясь из царской курии, я в носилках съел ломоть хлеба и несколько ягод толстокожего винограда». И опять: «Никакой иудей не справлял субботний пост с таким усердием, милый Тиберий, как я постился нынче: только в бане, через час после захода солнца, пожевал я кусок-другой перед тем, как растираться». Из-за такой беззаботности он не раз обедал один, до прихода или после ухода гостей, а за общим столом ни к чему не притрагивался. С виду он был красив и в любом возрасте сохранял привлекательность, хотя и не старался прихорашиваться. О своих волосах он так мало заботился, что давал причесывать себя для скорости сразу нескольким цирюльникам, а когда стриг или брил бороду, то одновременно что-нибудь читал или даже писал. Лицо его было спокойным и ясным, говорил ли он или молчал: один из галльских вождей даже признавался среди своих, что именно это поколебало его и остановило, когда он собирался при переходе через Альпы, приблизившись под предлогом разговора, столкнуть Августа в пропасть. Глаза у него были светлые и блестящие; он любил, чтобы в них чудилась некая божественная сила, и бывал доволен, когда под его пристальным взглядом собеседник опускал глаза, словно от сияния солнца. Впрочем, к старости он стал хуже видеть левым глазом. Зубы у него были редкие, мелкие, неровные, волосы — рыжеватые и чуть вьющиеся, брови — сросшиеся, уши — небольшие, нос — с горбинкой и заостренный, цвет кожи — между смуглым и белым. Росту он был невысокого — впрочем, вольноотпущенник Юлий Марат, который вел его записки, сообщает, что в нем было пять футов и три четверти,— но это скрывалось соразмерным и стройным сложением и было заметно лишь рядом с более рослыми людьми. Смерть его, к рассказу о которой я перехожу, и посмертное его обожествление также были предсказаны самыми несомненными предзнаменованиями. Когда он перед толпою народа совершал пятилетнее жертвоприношение на Марсовом поле, над ним появился орел, сделал несколько кругов, опустился на соседний храм и сел на первую букву имени Агриппы; заметив это, он велел своему коллеге Тиберию произнести обычные обеты на новое пятилетие, уже приготовленные и записанные им на табличках, а о себе заявил, что не возьмет на себя то, чего уже не исполнит. Около того же времени от удара молнии расплавилась первая буква имени под статуей; и ему было объявлено, что после этого он проживет только сто дней, так как буква С означает именно это число, и что затем он будет причтен к богам, так как AESAR, остальная часть имени Цезаря, на этрусском языке означает «бог». Скончался он в той же спальне, что и его отец Октавий, в консульство двух Секстов, Помпея и Апулея, в четырнадцатый день до сентябрьских календ, в девятом часу дня, не дожив тридцати пяти дней до полных семидесяти шести лет. ТИБЕРИЙ Некоторые полагали, что Тиберии родился в Фундах, но это лишь ненадежная догадка, основанная на том, что в Фундах родилась его бабка по матери и что впоследствии по постановлению сената там была воздвигнута статуя Благоденствия. Однако более многочисленные и надежные источники показывают, что родился он в Риме, на Палатине, в шестнадцатый день до декабрьских календ, в консульство Марка Эмилия Лепида (вторичное) и Луция Мунация Планка, во время филиппийской войны. Так записано в летописях и в государственных ведомостях. Впрочем, иные относят его рождение к предыдущему году, при консулах Гирции и Пансе, иные — к последующему, при консулах Сервилии Исаврике и Лупии Антонии. В первые два года после принятия власти он не отлучался из Рима ни на шаг; да и потом он выезжал лишь изредка, на несколько дней, и только в окрестные городки, не дальше Анция. Несмотря на это, он часто объявлял о своем намерении объехать провинции и войска; чуть не каждый год он готовился к походу, собирал повозки, запасал по муниципиям и колониям продовольствие и даже позволял приносить обеты о его счастливом отправлении и возвращении. За это его стали в шутку называть «Каллипидом», который, по греческой пословице, бежит и бежит, а все ни на локоть не сдвинется. Много и других жестоких и зверских поступков совершил он под предлогом строгости и исправления нравов, а на деле — только в угоду своим природным наклонностям. Некоторые даже в стихах клеймили его тогдашние злодеяния и предрекали будущее: Ты беспощаден, жесток — говорить ли про все остальное? Пусть я умру, коли мать любит такого сынка. Всадник ты? Нет. Почему? Ста тысяч, и тех не найдешь ты. Ну, а еще почему? В Родосе ты побывал. Цезарь конец положил золотому сатурнову веку — Ныне, покуда он жив, веку железному быть. Он позабыл про вино, хваченный жаждою крови: Он упивается ей так же, как раньше вином. Ромул на Суллу, взгляни: не твоим ли он счастлив несчастьем? Мария, вспомни возврат, Рим потопивший в крови; Вспомни о том, как Антоний рукой, привыкшей к убийствам. Ввергнул отчизну в пожар братоубийственных войн. Скажешь ты: Риму конец! никто, побывавший в изгнанье, Не становился царем, крови людской не пролив. Сперва он пытался видеть в этом не подлинные чувства, а только гнев и ненависть тех, кому не по нраву его строгие меры; он даже говорил то и дело: «Пусть ненавидят, лишь бы соглашались». Но затем он сам показал, что все эти нарекания были заведомо справедливы и основательны. Его мятущийся дух жгли еще больнее бесчисленные поношения со всех сторон. Не было такого оскорбления, которого бы осужденные не бросали ему в лицо или не рассыпали подметными письмами в театре. Принимал он их по- разному: то, мучась стыдом, старался утаить их и скрыть, то из презрения сам разглашал их ко всеобщему сведению. Даже Артабан, парфянский царь, позорил его в послании, где попрекал его убийствами близких и дальних, праздностью и развратом, и предлагал ему скорее утолить величайшую и справедливую ненависть сограждан добровольной смертью. Наконец он сам себе стал постыл: всю тяжесть своих мучений выразил он в начале одного письма такими словами: «Как мне писать вам, отцы сенаторы, что писать и чего пока не писать? Если я это знаю, то пусть волей богов и богинь я погибну худшей смертью, чем погибаю вот уже много дней». Некоторые полагают, что он знал о таком своем будущем заранее и давно предвидел, какая ненависть и какое бесславие ожидают его впереди. Именно потому, принимая власть, отказался он так решительно от имени отца отечества и от присяги на верность его делам: он боялся покрыть себя еще большим позором, оказавшись недостойным таких почестей. Это можно заключить и из его речи по поводу обоих предложений. Так, он говорит, что покуда он будет в здравом уме, он останется таким, как есть, и нрава своего не изменит; но все же, чтобы не подавать дурного примера, лучше сенату не связывать себя верностью поступкам такого человека, который может под влиянием случая перемениться. И далее: «Если же когда-нибудь усомнитесь вы в моем поведении и в моей преданности,— а я молю, чтобы смерть унесла меня раньше, чем случится такая перемена в ваших мыслях,— то для меня немного будет чести и в звании отца отечества, а для вас оно будет укором либо за опрометчивость, с какой вы его мне дали, либо за непостоянство, с каким вы обо мне изменили мнение». Телосложения он был дородного и крепкого, росту выше среднего, в плечах и в груди широк, в остальном теле статен и строен с головы до пят. Левая рука была ловчее и сильнее правой, а суставы ее так крепки, что он пальцем протыкал свежее цельное яблоко, а щелчком мог поранить голову мальчика и даже юноши. Цвет кожи имел белый, волосы на затылке длинные, закрывающие даже шею,— по-видимому, семейная черта. Лицо красивое, хотя иногда на нем вдруг высыпали прыщи; глаза большие и с удивительной способностью видеть и ночью, и в потемках, но лишь ненадолго и тотчас после сна, а потом их зрение вновь притуплялось. Ходил он, наклонив голову, твердо держа шею, с суровым лицом, обычно молча: даже с окружающими разговаривал лишь изредка, медленно, слегка поигрывая пальцами. Все эти неприятные и надменные черты замечал в нем еще Август и не раз пытался оправдать их перед сенатом и народом, уверяя, что в них повинна природа, а не нрав. Здоровьем он отличался превосходным, и за все время своего правления не болел ни разу, хотя с тридцати лет заботился о себе сам, без помощи и советов врачей. В свой последний день рождения он видел во сне статую Аполлона Теменитского, огромную и дивной работы, которую он привез из Сиракуз, чтобы поставить в библиотеке при новом храме; и статуя произнесла, что не ему уже освятить ее. За несколько дней до его кончины башня маяка на Капри рухнула от землетрясения. А в Мизене, когда в столовую внесли для обогревания золу и уголья, давно уже погасшие и остывшие, они вдруг вспыхнули и горели, не погасая, с раннего вечера до поздней ночи. Смерть его вызвала в народе ликование. При первом же известии одни бросились бегать, крича: «Тиберия в Тибр», другие молили Землю-мать и богов Манов не давать покойнику места, кроме как среди нечестивцев, третьи грозили мертвому крюком и Гемониями. К памяти о былых неистовствах прибавлялась последняя жестокость. Дело в том, что по решению сената казнь приговоренных свершалась только на десятый день; и вот, для некоторых день кары совпал с вестью о смерти Тиберия. Они умоляли всех о помощи, но Гай еще не появлялся, заступиться и вмешаться было некому, и стража, во избежание противоза-кония, задушила их и сбросила в Гемонии. От этого ненависть вспыхнула еще сильней: казалось, что и со смертью тирана зверства его не прекращаются. Когда тело вынесли из Мизена, многие кричали, что его надо отнести в Ателлу и поджарить в амфитеатре, но воины перенесли его в Рим, и там оно было сожжено и погребено всенародно. ГАЙ КАЛИГУЛА Гай Цезарь родился накануне сентябрьских календ в консульство своего отца и Гая Фонтея Капитона. Где он родился, неясно, так как свидетельства о том разноречивы. Гней Лентул Гетулик пишет, будто он родился в Тибуре. Плиний Секунд утверждает, что в земле треверов, в поселке Амбитарвий, что выше Конфлуэнт: при этом он ссылается на то, что там показывают жертвенник с надписью: «За разрешение Агриппины». Стишки, ходившие вскоре после его прихода к власти, указывают, что он появился на свет в зимних лагерях: В лагере был он рожден, под отцовским оружием вырос: Это ль не знак, что ему высшая власть суждена? Я же отыскал в ведомостях, что он родился в Анции. Прозвищем «Калигула» («Сапожок») он обязан лагерной шутке, потому что подрастал он среди воинов, в одежде рядового солдата. А какую привязанность и любовь войска’ снискало ему подобное воспитание, это лучше всего стало видно, когда он одним своим видом несомненно успокоил солдат, возмутившихся после смерти Августа и уже готовых на всякое безумие. В самом деле, они только тогда отступились, когда заметили, что от опасности мятежа его отправляют прочь, под защиту ближайшего города: тут лишь они, потрясенные раскаянием, схватив и удержав повозку, стали умолять не наказывать их такой немилостью. Вместе с отцом совершил он и поездку в Сирию. Воротившись оттуда, жил он сначала у матери, потом, после ее ссылки — у Ливии Августы, своей прабабки; когда она умерла, он, еще отроком, произнес над нею похвальную речь с ростральной трибуны. Затем он перешел жить к своей бабке Антонии. К девятнадцати годам он был вызван Тиберием на Капри: тогда он в один и тот же день надел тогу совершеннолетнего и впервые сбрил бороду, но без всяких торжеств, какими сопровождалось совершеннолетие его братьев. На Капри многие хитростью или силой пытались выманить у него выражения недовольства, но он ни разу не поддался искушению: казалось, он вовсе забыл о судьбе своих ближних, словно с ними ничего и не случилось. А все, что приходилось терпеть ему самому, он сносил с таким невероятным притворством, что по справедливости о нем было сказано: «не было на свете лучшего раба и худшего государя». Однако уже тогда не мог он обуздать свою природную свирепость и порочность. Он с жадным любопытством присутствовал при пытках и казнях истязаемых, по ночам в накладных волосах и длинном платье бродил по кабакам и притонам, с великим удовольствием плясал и пел на сцене. Тиберий это охотно допускал, надеясь этим укротить его лютый нрав. Проницательный старик видел его насквозь и не раз предсказывал, что Гай живет на погибель и себе, и всем и что в нем он вскармливает ехидну для римского народа и Фаэтона для всего земного круга. Консулом он был четыре раза: в первый раз с июльских календ в течение двух месяцев, во второй раз с январских календ в течение тридцати дней, в третий раз — до январских ид, в четвертый раз — до седьмого дня перед январскими идами. Из этих консульств два последних следовали одно за другим. В третье консульство он вступил в Лугдуне один, но не из надменности и пренебрежения к обычаям, как думают некоторые, а только потому, что в своей отлучке он не мог знать, что его товарищ по должности умер перед самым новым годом. Всенародные раздачи он устраивал дважды, по триста сестерциев каждому. Столько же устроил он и роскошных угощений для сенаторов и всадников и даже для их жен и детей. При втором угощении он раздавал вдобавок мужчинам нарядные тоги, а женщинам и детям красные пурпурные повязки. А чтобы и впредь умножить народное веселье, он прибавил к празднику Сатурналий лишний день, назвав его Ювеналиями. Гладиаторские битвы он устраивал не раз, иногда в амфитеатре Тавра, иногда в септе; между поединками он выводил отряды кулачных бойцов из Африки и Кампании, цвет обеих областей. Зрелищами он не всегда распоряжался сам, а иногда уступал эту честь своим друзьям или должностным лицам. Театральные представления он давал постоянно, разного рода и в разных местах, иной раз даже ночью, зажигая факелы по всему городу. Разбрасывал он и всяческие подарки, раздавал и корзины с закусками для каждого. Одному римскому всаднику, который на таком угощении сидел напротив него и ел с особенной охотой и вкусом, он послал и свою собственную долю, а одному сенатору при подобном же случае — указ о назначении претором вне очереди. Устраивал он много раз и цирковые состязания с утра до вечера, с африканскими травлями и троянскими играми в промежутках; на самых пышных играх арену посыпали суриком и горной зеленью, а лошадями правили только сенаторы. Однажды он даже устроил игры внезапно и без подготовки, когда осматривал убранство цирка из Гелотова дома, и несколько человек с соседних балконов его попросили об этом. Кроме того, он выдумал зрелище новое и неслыханное дотоле. Он перекинул мост через залив между Байями и Путеоланским молом, длиной почти в три тысячи шестьсот шагов: для этого он собрал отовсюду грузовые суда, выстроил их на якорях в два ряда, насыпал на них земляной вал и выровнял по образцу Аппиевой дороги. По этому мосту он два дня подряд разъезжал взад и вперед: в первый день — на разубранном коне, в дубовом венке, с маленьким щитом, с мечом и в златотканом плаще; на следующий день — в одежде возницы, на колеснице, запряженной парой самых лучших скакунов, и перед ним ехал мальчик Дарий из парфянских заложников, а за ним отряд преторианцев и свита в повозках. Я знаю, что, по мнению многих, Гай выдумал этот мост в подражание Ксерксу, который вызвал такой восторг, перегородив много более узкий Геллеспонт, а по мнению других — чтобы славой исполинского сооружения устрашить Германию и Британию, которым он грозил войной. Однако в детстве я слышал об истинной причине этого предприятия от моего деда, который знал о ней от доверенных придворных: дело в том, что когда Тиберий тревожился о своем преемнике и склонялся уже в пользу родного внука, то астролог Фрасилл заявил ему, что Гай скорей на конях проскачет через Байский залив, чем будет императором. До сих пор шла речь о правителе, далее придется говорить о чудовище. Он присвоил множество прозвищ: его называли и «благочестивым», и «сыном лагеря», и «отцом войска», и «Цезарем благим и величайшим». Услыхав однажды, как за обедом у него спорили о знатности цари, явившиеся в Рим поклониться ему, он воскликнул: ...Единый да будет властитель, Царь да будет единый] Немного недоставало, чтобы он тут же принял диадему и видимость принципата обратил в царскую власть. Однако его убедили, что он возвысился превыше и принцепсов и царей. Тогда он начал притязать уже на божеское величие. Он распорядился привезти из Греции изображения богов, прославленные и почитанием и искусством, в их числе даже Зевса Олимпийского,— чтобы снять с них головы и заменить своими. Палатинский дворец он продолжил до самого форума, а храм Кастора и Поллукса превратил в его прихожую, и часто стоял там между статуями близнецов, принимая божеские почести от посетителей; и некоторые величали его Юпитером Латинским. Мало того, он посвятил своему божеству особый храм, назначил жрецов, установил изысканнейшие жертвы. В храме он поставил свое изваяние в полный рост и облачил его в собственные одежды. Должность главного жреца отправляли поочередно самые богатые граждане, соперничая из-за нее и торгуясь. Жертвами были павлины, фламинго, тетерева, цесарки, фазаны,— для каждого дня своя порода. По ночам, когда сияла полная луна, он неустанно звал ее к себе в объятия и на ложе, а днем разговаривал наедине с Юпитером Капитолийским: иногда шепотом, то наклоняясь к его уху, то подставляя ему свое, а иногда громко и даже сердито. Так, однажды слышали его угрожающие слова: — Ты подними меня, или же я тебя...— а потом он рассказывал, что бог наконец его умилостивил и даже сам пригласил жить вместе с ним. После этого он перебросил мост с Капитолия на Палатин через храм божественного Августа, а затем, чтобы поселиться еще ближе, заложил себе новый дом на Капитолийском холме. Свирепость своего нрава обнаружил он яснее всего вот какими поступками. Когда вздорожал скот, которым откармливали диких зверей для зрелищ, он велел бросить им на растерзание преступников; и, обходя для этого тюрьмы, он не смотрел, кто в чем виноват, а прямо приказывал, стоя в дверях, забирать всех, «от лысого до лысого». От человека, который обещал биться гладиатором за его выздоровление, он потребовал исполнение обета, сам смотрел, как он сражался, и отпустил его лишь победителем, да и то после долгих просьб. Того, кто поклялся отдать жизнь за него, но медлил, он отдал своим рабам — прогнать его по улицам в венках и жертвенных повязках, а потом во исполнение обета сбросить с раската. Многих граждан из первых сословий он, заклеймив раскаленным железом, сослал на рудничные или дорожные работы, или бросил диким зверям, или самих, как зверей, посадил на четвереньки в клетках, или перепилил пополам пилой,— и не за тяжкие провинности, а часто лишь ‘за то, что они плохо отозвались о его зрелищах или никогда не клялись его гением. Отцов он заставлял присутствовать при казни сыновей; за одним из них он послал носилки, когда тот попробовал уклониться по нездоровью; другого он тотчас после зрелища казни пригласил к столу и всяческими любезностями принуждал шутить и веселиться. Надсмотрщика над гладиаторскими битвами и травлями он велел несколько дней подряд бить цепями у себя на глазах и умертвил не раньше, чем почувствовал вонь гниющего мозга. Сочинителя ателлан за стишок с двусмысленной шуткой он сжег на костре посреди амфитеатра. Один римский всадник, брошенный диким зверям, не переставал кричать, что он невинен; он вернул его, отсек ему язык и снова прогнал на арену. Налоги он собирал новые и небывалые — сначала через откупщиков, а затем, так как это было выгоднее, через преторианских центурионов и трибунов. Ни одна вещь, ни один человек не оставались без налога. За все съестное, что продавалось в .городе, взималась твердая пошлина; со всякого судебного дела заранее взыскивалась сороковая часть спорной суммы, а кто отступался или договаривался без суда, тех наказывали; носильщики платили восьмую часть дневного заработка; проститутки — сцену одного сношения; и к этой статье закона было прибавлено, что такому налогу подлежат и все, кто ранее занимался блудом или сводничеством, даже если они с тех пор вступили в законный ‘брак. Росту он был высокого, цветом лица очень бледен, тело грузное, шея и ноги очень худые, глаза и виски впалые, лоб широкий и хмурый, волосы на голове — редкие, с плешью на темени, а по телу — густые. Поэтому считалось смертным преступлением посмотреть на него сверху, когда он проходил мимо, или произнести ненароком слово «коза». Лицо свое, уже от природы дурное и отталкивающее, он старался сделать еще свирепее, перед зеркалом наводя на него пугающее и устрашающее выражение. Здоровьем он не отличался ни телесным, ни душевным. В детстве он страдал падучей; в юности хоть и был вынослив, но по временам от внезапной слабости почти не мог ни ходить, ни стоять, ни держаться, ни прийти в себя. А помраченность своего ума он чувствовал сам, и не раз помышлял удалиться от дел, чтобы очистить мозг. Думают, что его опоила Цезония зельем, которое должно было возбудить в нем любовь, но вызвало безумие. В особенности его мучила бессонница. По ночам он не спал больше чем три часа подряд, да и то неспокойно: странные видения тревожили его, однажды ему приснилось, будто с ним разговаривает какой-то морской призрак. Поэтому, не в силах лежать без сна, он большую часть ночи проводил то сидя на ложе, то блуждая по бесконечным переходам и вновь и вновь призывая желанный рассвет. БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ Клавдий родился в консульство Юла Антония и Фабия Африкана, в календы августа, в Лугдуне, в тот самый день, когда там впервые был освящен жертвенник Августу. Назван он был Тиберий Клавдий Друз; потом, когда его старший брат был усыновлен в семействе Юлиев, он принял и прозвище «Германик». В младенчестве он потерял отца, в течение всего детства и юности страдал долгими и затяжными болезнями, от которых так ослабел умом и телом, что в совершенных летах считался не способным ни к каким общественным или частным делам. Даже после того, как он вышел из-под опеки, он еще долго оставался в чужой власти и под присмотром дядьки: и он потом жаловался в одной своей книге, что дядькой к нему нарочно приставили варвара, бывшего конюшего, чтобы тот его жестоко наказывал по любому поводу. Из-за того же нездоровья он и на гладиаторских играх, которые давал вместе с братом в память отца, сидел на распорядительском месте в шапке, чего никогда не водилось, и в день совершеннолетия был доставлен на Капитолий в носилках, среди ночи, и без всякой обычной торжественности. Благоустройство и снабжение города было для него всегда предметом величайшей заботы. Когда в Эмилиевом предместье случился затяжной пожар, он двое суток подряд ночевал в дирибитории; так как не хватало ни солдат, ни рабов, он через старост созывал для тушения народ со всех улиц и, поставив перед собою мешки, полные денег, тут же награждал за помощь каждого . по заслугам. А когда со снабжением начались трудности из-за непрерывных неурожаев и однажды его самого среди форума толпа осыпала бранью и объедками хлеба, так что ему едва ; удалось черным ходом спастись во дворец,— с тех пор он ни перед чем не останавливался, чтобы наладить подвоз продовольствия • даже в зимнюю пору. Торговцам он обеспечил твердую прибыль, обещав, если кто пострадает от бури, брать убыток на себя; а за ^ постройку торговых кораблей предоставил большие выгоды для лиц всякого состояния: гражданам—свободу от закона Папия-Поппея, латинам — гражданское право, женщинам — право четырех детей. Эти установления в силе и до сих пор. Постройки он создал не столько многочисленные, сколько значительные и необходимые. Главнейшие из них — водопровод, начатый Гаем, а затем — водосток из Фуцинского озера и гавань в Остии, хоть он и знал, что первое из этих предприятий было отвергнуто Августом по неотступным просьбам марсов, а второе не раз обдумывалось божественным Юлием, но было остановлено из-за трудностей. По водопроводу Клавдия он привел в город воду из обильных и свежих источников Церулейского, Курциева и Альбудигна, а по новым каменным аркам — из реки Аниена и распределил ее по множеству пышно украшенных водоемов. Наружность его не лишена была внушительности и достоинства, но лишь тогда, когда он стоял, сидел и в особенности лежал: он был высок, телом плотен, лицо и седые волосы были у него красивые, шея толстая. Но когда он ходил, ему изменяли слабые колени, а когда что-нибудь делал, отдыхая или занимаясь, то безобразило его многое: смех его был неприятен, гнев — отвратителен: на губах у него выступала пена, из носу текло, язык заплетался, голова тряслась непрестанно, а при малейшем движении — особенно. Здоровье его, хоть и было когда-то некрепко, во все время правления оставалось превосходным, если не считать болей в желудке, которые, по его словам, были так мучительны, что заставляли помышлять о самоубийстве. Природная его свирепость и кровожадность обнаруживалась как в большом, так и в малом. Пытки при допросах и казни отцеубийц заставлял он производить немедля и у себя на глазах. Однажды в Тибуре он пожелал видеть казнь по древнему обычаю, преступники уже были привязаны к столбам, но не нашлось палача; тогда он вызвал палача из Рима и терпеливо ждал его до самого вечера. На гладиаторских играх, своих или чужих, он всякий раз приказывал добивать даже тех, кто упал случайно, особенно же ретиариев: ему хотелось посмотреть в лицо умирающим. Когда какие-то единоборцы поразили друг друга насмерть, он тотчас приказал изготовить для него из мечей того и другого маленькие ножички. Звериными травлями и полуденными побоищами увлекался он до того, что являлся на зрелища ранним утром и оставался сидеть даже когда все расходились завтракать. Кроме заранее назначенных бойцов, он посылал на арену людей по пустым и случайным причинам — например, рабочих, служителей и тому подобных, если вдруг плохо работала машина, подъемник или еще что-нибудь. Однажды он заставил биться даже одного своего раба-именователя, как тот был, в тоге. Умер он от яда, как признают все; но кто и где его дал, о том говорят по-разному. Одни сообщают, что сделал это евнух Галот, проверявший его кушанья за трапезой жрецов на Капитолии, другие — что сама Агриппина за домашним обедом поднесла ему отраву в белых грибах, его любимом лакомстве. Предвещанием его смерти были важные знаменья. На небе явилась хвостатая звезда, так называемая комета; молния ударила в памятник его отца. Друза; много должностных лиц, больших и малых, скончалось в тот же год. Да и сам он, как кажется, знал и не скрывал близости своего конца. Это видно из того, что при назначении консулов он назначил их только до месяца своей смерти; в последний раз присутствуя в сенате, он всячески увещевал сыновей жить меж собою в согласии и с мольбою просил сенаторов позаботиться об их молодости; а в последний раз заседая в суде, он произнес, что близок его жизненный предел и, несмотря на общее возмущение, повторил это снова и “нова. НЕРОН Нерон родился в Анции, через девять месяцев после смерти Тиберия, в восемнадцатый день до январских календ, на рассвете, так что лучи восходящего солнца коснулись его едва ль не раньше, чем земли. Тотчас по его гороскопу многими было сделано много страшных догадок; пророческими были и слова отца его Домиция, который в ответ на поздравления друзей воскликнул, что от него и Агриппины ничто не может родиться, кроме ужаса и горя для человечества. Другой знак его будущего злополучия был замечен в день очищения: Гай Цезарь, когда сестра попросила его дать младенцу имя по своему желанию, взглянул на своего дядю Клавдия (который потом, уже будучи правителем, и усыновил Нерона) и назвал его имя, себе на потеху и назло Агриппине, так как Клавдий был посмешищем всего двора. Трех месяцев он потерял отца; по завещанию он получил третью часть наследства, да и ту не полностью, потому что все имущество забрал его сонаследник Гай. Потом и мать его была сослана, а он, в нужде и почти в нищете, рос в доме своей тетки Лепиды под надзором Двух дядек, танцовщика и цирюльника. Но когда Клавдий принял власть, ему не только было возвращено отцовское имущество, но и добавлено наследство его отчима Пассиена Криспа. А благодаря влиянию и могуществу матери, возвращенной из ссылки и восстановленной в правах, он достиг такого положения, что ходил даже слух, будто Мессалина, жена Клавдия, видя в нем соперника Британику, подсылала убийц задушить его во время полуденного сна. Добавляли к этой выдумке, будто бы с его подушки навстречу им бросился змей, и они в ужасе убежали. Возникла такая выдумка оттого, что на его ложе у изголовья была найдена сброшенная змеиная кожа; кожу эту, по желанию Агриппины, вправили в золотое запястье, и он долго носил его на правой руке, но потом сбросил, чтобы не томиться воспоминаньями о матери, и тщетно искал его вновь в дни своих последних бедствий. Еще в детстве, не достигнув даже отроческого возраста, выступал он в цирке на Троянских играх, много раз и с большим успехом. На одиннадцатом году он был усыновлен Клавдием и отдан на воспитание Аннею Сенеке, тогда уже сенатору. Говорят, что на следующую ночь Сенека видел во сне, будто воспитывает Гая Цезаря; и скоро Нерон, при первых же поступках обнаружив свой жестокий нрав, показал, что сон был вещим. Так, своего брата Британика, когда тот по привычке приветствовал его Агено-барбом и после усыновления, он стал обзывать перед лицом Клавдия незаконнорожденным. А против своей тетки Лепиды он открыто давал показания в суде в угоду матери, которая ее преследовала. Впервые в Риме он устроил пятилетние состязания по греческому образцу, из трех отделений — музыкальное, гимнастическое и конное. Он назвал их Нерониями и освятил для них бани и гимнасий, где каждый сенатор и всадник безденежно пользовался маслом. Судей для состязаний назначил он по жребию из консульского звания, судили они с преторских мест. В латинских речах и стихах состязались самые достойные граждане, а потом он сам спустился в орхестру к сенату и по единодушному желанию участников принял венок; но перед венком за лирную игру он только преклонил колена и велел отнести его к подножию статуи Августа. Расширять и увеличивать державу у него не было ни охоты, ни надежды. Даже из Британии он подумывал вывести войска и не сделал этого лишь из стыда показаться завистником отцовской славы. Только Понтийское царство с согласия Подемона да Альпийское после смерти Коттия он обратил в провинции. Злодейства и убийства свои он начал с Клавдия. Он не был зачинщиком его умерщвления, но знал о нем и не скрывал этого: так, белые грибы он всегда с тех пор называл по греческой поговорке «пищей богов», потому что в белых грибах Клавдию поднесли отраву. Во всяком случае, преследовал он покойника и речами и поступками, обвиняя его то в глупости, то в лютости: так. он говаривал, что Клавдий «перестал блажить среди людей», прибавляя в насмешку лишний слог к слову «жить»; многие его решения и постановления он отменил как сделанные человеком слабоумным и сумасбродным; и даже место его погребального костра он обнес загородкой убогой и тонкой. За умерщвлением матери последовало убийство тетки. Ее он посетил, когда она лежала, страдая запором; старуха погладила, как обычно, пушок на его щеках и сказала ласково: «Увидеть бы мне вот эту бороду остриженной, а там и помереть можно»; а он, обратясь к друзьям, насмешливо сказал, что острижет ее хоть сейчас, и велел врачам дать больной слабительного свыше меры. Она еще не скончалась, как он уже вступил в ее наследство, скрыв завещание, чтобы ничего не упустить из рук. С не меньшей свирепостью расправлялся он и с людьми чужими и посторонними. Хвостатая звезда, по общему поверью грозящая смертью верховным властителям, стояла в небе несколько ночей подряд; встревоженный этим, он узнал от астролога Бальбилла, что обычно цари откупаются от таких бедствий какой-нибудь блистательной казнью, отвращая их на головы вельмож, и тоже обрек на смерть всех знатнейших мужей государства — тем более что благовидный предлог для этого представило раскрытие двух заговоров: первый и важнейший был составлен Пизоном в Риме, второй — Виницианом в Беневенте. Заговорщики держали ответ в оковах из тройных цепей: одни добровольно признавались в преступлении, другие даже вменяли его себе в заслугу — по их словам, только смертью можно было помочь человеку, запятнанному всеми пороками. Дети осужденных были изгнаны из Рима и убиты ядом или голодом: одни, как известно, были умерщвлены за общим завтраком, вместе со своими наставниками и прислужниками, другим запрещено было зарабатывать себе пропитание. Пугали его также и явно зловещие сновидения, гадания и знаменья как старые, так и новые. Никогда раньше он не видел снов; а после убийства матери ему стало сниться, что он правит кораблем и кормило от него ускользает, что жена его Октавия увлекает его в черный мрак, что его то покрывают стаи крылатых муравьев, то обступают и теснят статуи народов, что воздвигнуты в Помпеевом театре, и что его любимый испанский скакун превратился сзади в обезьяну, а голова осталась лошадиной и испускала громкое ржание. В Мавзолее сами собой распахнулись двери и послышался голос, зовущий Нерона по имени. В январские календы только что украшенные статуи Ларов обрушились как раз, когда им готовились жертвы; при гадании Спор поднес ему в подарок кольцо с резным камнем, изображавшим похищение Прозерпины; во время принесения обетов при огромном стечении всех сословий с трудом отыскались ключи от Капитолия. КЗ) Когда в сенате читалась его речь против Виндекса, где .говорилось, что преступники понесут наказание и скоро примут достойную гибель, со всех сторон раздались крики: «Да будет так, о Август!» Замечено было даже, что последняя трагедия, которую он пел перед зрителями, называлась «Эдил-изгнанник» и заканчивалась стихом: Жена, отец и мать мне умереть велят. Росту он был приблизительно среднего, тело — в пятнах и с дурным запахом, волосы рыжеватые, лицо скорее красивое, чем приятное, глаза серые и слегка близорукие, шея толстая, живот выпирающий, ноги очень тонкие. Здоровьем он пользовался отличным: несмотря на безмерные излишества, за четырнадцать лет он болел только три раза, да и то не отказывался ни от вина, ни от прочих своих привычек. Вид и одеяния его были совершенно непристойны: волосы он всегда завивал рядами, а во время греческой поездки даже отпускал их на затылке, одевался он в застольное шелковое платье, шею повязывал платком и так выходил к народу, распоясанный и необутый. Скончался он на тридцать втором году жизни, в тот самый день, в который убил когда-то Октавию. Ликование в народе было таково, что чернь бегала по всему городу в фригийских колпаках. Однако были и такие, которые еще долго украшали его гробницу весенними и летними цветами и выставляли на ростральных трибунах то его статуи в консульской тоге, то эдикты, в которых говорилось, что он жив и скоро вернется на страх своим врагам. Даже парфянский царь Вологез, отправляя в сенат послов для возобновления союза, с особенной настойчивостью просил, чтобы память Нерона оставалась в почете. И даже двадцать лет спустя, когда я был подростком, явился человек неведомого звания, выдававший себя за Нерона, и имя его имело такой успех у парфян, что они деятельно его поддерживали и лишь с трудом согласились выдать. ГАЛЬБА Нерону наследовал Гальба, с домом Цезарей никаким родством не связанный, но, бесспорно, муж великой знатности, из видного и древнего рода: в надписях на статуях он всегда писал себя правнуком Квинта Катула Капитолийского, а сделавшись императором, выставил у себя в атрии свою родословную, восходящую по отцу к Юпитеру, а по матери к Пасифае, супруге Миноса. Сервий Гальба, император, родился в консульство Марка Валерия Мессалы и Гнея Лентула, в девятый день до январских календ, в усадьбе, что на холме близ Таррацины, по левую сторону как идти в Фунды. Усыновленный своей мачехой Ливией, он принял ее фамилию вместе с прозвищем Оцеллы и переменил имя, назвавшись Луцием вместо Сервия,— это имя он носил, пока не стал императором. Как известно. Август, когда Гальба мальчиком приветствовал его среди сверстников, ущипнул его за щечку и сказал: «И ты, малютка, отведаешь моей власти». А Тиберий, узнав, что Гальба будет императором, но только в старости, сказал: «Пусть живет, коли нас это не касается». Дед его однажды совершал жертвоприношение после удара молнии, как вдруг орел выхватил внутренности жертвы у него из рук и унес на дуб, покрытый желудями; ему сказали, что это возвещает их роду верховную власть, хотя и не скоро, а он насмешливо отозвался: «Еще бы — когда мул ожеребится!» И впоследствии, когда Гальба поднимал свой мятеж, мул ожеребился, и это более всего внушило ему уверенности: другие ужасались этому мерзкому диву, а он один считал его самым радостным знаком, памятуя о жертвоприношении и словах деда. В день совершеннолетия он увидел во сне Фортуну, которая сказала, что устала стоять на его пороге, и если он не поторопится ее принять, она достанется первому встречному. Проснувшись, он распахнул дверь и нашел у порога медное изображение богини, длиной побольше локтя. На своей груди от отнес его в Тускул, где обычно проводил лето, посвятил ему комнату в своем доме и с этих пор каждый месяц почитал его жертвами и каждый год — ночными празднествами. В почетные должности вступал он раньше положенного возраста. В бытность претором он показал на Флоралиях невиданное дотоле зрелище: слонов- канатоходцев. Потом около года управлял провинцией Аквитанией. Затем он был очередным консулом в течение шести месяцев, причем случилось так, что в этой должности предшественником его был Луций Домиций, отец Нерона, а преемником — Сальвий Отон, отец Отона — видимое предвестие того, что в будущем он станет императором в промежутке между сыновьями обоих. Он правил суд в Новом Карфагене, когда узнал о восстании в Галлии: его просил о помощи аквитанский легат. Потом пришло письмо и от Виндекса с призывом стать освободителем и вождем рода человеческого. После недолгого колебания он это предложение принял, побуждаемый отчасти страхом, отчасти надеждою. С одной стороны, он уже перехватил приказ Нерона о своей казни, тайно посланный прокураторам, с другой стороны, ему внушали бодрость благоприятные гаданья и знаменья, а также пророчества одной знатной девицы — тем более что в это время жрец Юпитера Клунийского по внушению сновидения вынес из святилища точно такие же прорицания, точно так же произнесенные вещей девою двести лет назад; а говорилось в них о том, что будет время, когда из Испании явится правитель и владыка мира. В насмешку над ним рассказывали — справедливо ли, нет ли,— будто однажды при виде роскошного пира он громко застонал; будто очередному управителю, поднесшему ему краткую сводку расходов, он за старание и умение пожаловал блюдо овощей; и будто флейтисту Кану, восторгаясь его игрой, он подарил пять денариев, вынув их собственной рукой из собственного ларца. Многие .знаменья одно за другим еще с самого начала его правления возвещали ожидавший его конец. Когда на всем его пути, от города к городу, справа и слева закалывали жертвенных животных, то один бык, оглушенный ударом секиры, порвал привязь, подскочил к его коляске и, вскинув ноги, всего обрызгал кровью; а когда он выходил из коляски, телохранитель под напором толпы чуть не ранил его копьем. Когда он вступал в Рим и затем на Палатин, земля перед ним дрогнула и послышался звук, подобный реву быка. Дальнейшие знаки были еще ясней. Для своей Тускуланской Фортуны он отложил из всех богатств одно ожерелье, составленное из жемчуга и драгоценных камней, но вдруг решил, что оно достойно более высокого места, и посвятил его Венере Капитолийской; а на следующую ночь ему явилась во сне Фортуна, жалуясь, что ее лишили подарка, и грозясь, что теперь и она у него отнимет все, что дала. В испуге он на рассвете помчался в Тускул, чтобы замолить сновидение, и послал вперед гонцов приготовить все для жертвы; но, явившись, нашел на алтаре лишь теплый пепел, а рядом старика в черном, с фимиамом на стеклянном блюде и вином в глиняной чаше. Замечено было также, что при новогоднем жертвоприношении у него упал с головы венок, а при гадании разлетелись куры; и в день усыновления при обращении к солдатам ему не поставили должным образом на трибуну военное кресло, а в сенате консульское кресло подали задом наперед. Наконец, утром, в самый день его гибели, гадатель при жертвоприношении несколько раз повторил ему, что надо остерегаться опасности — убийцы уже близко. Росту он был среднего, голова совершенно лысая, глаза голубые, нос крючковатый, руки и ноги искалеченные подагрой до того, что он не мог ни носить подолгу башмак, ни читать или просто держать книгу. На правом боку у него был мясистый нарост, так отвисший, что его с трудом сдерживала повязка. Убит он был у Курциева озера и там остался лежать; наконец, какой-то рядовой солдат, возвращаясь с выдачи пайка, сбросил с плеч мешок и отрубил ему голову. Так как ухватить ее за волосы было нельзя, он сунул ее за пазуху, а потом поддел пальцем за челюсть и так преподнес Отону; а тот отдал ее обозникам и харчевникам, и они, потешаясь, носили ее на пике по лагерю с криками: «Красавчик Гальба, наслаждайся молодостью!» Главным поводом к этой дерзкой шутке был распространившийся незадолго до этого слух, будто кто-то похвалил его вид, еще цветущий и бодрый, а он ответил: «...Крепка у меня еще сила!» Затем вольноотпущенник Патробия Нерониана купил у них голову за сто золотых и бросил там, где по приказу Гальбы был казнен его патрон. И лишь много позже управляющий Аргив похоронил ее вместе с трупом в собственных садах Гальбы по Аврелиевой дороге. отон Предки Отона происходят из города Ферентина, из семейства древнего и знатного, берущего начало от этрусских князей. Дед его, Марк Сальвий Отон, был сыном римского всадника и женщины низкого рода — может быть, даже не свободнорожденной; благодаря расположению Ливии Августы, в доме которой он вырос, он стал сенатором, но дальше преторского звания не пошел. Отец его, Луций Отон, по матери принадлежал к очень знатному роду со многими влиятельными связями, а лицом был так похож на императора Тиберия и так им любим, что иные ‘видели в нем его сына. Почетные должности в Риме, проконсульство в Африке и внеочередные военные поручения выполнял он с большой твердостью. В Иллирике после мятежа Камилла несколько солдат в порыве раскаянья убили своих начальников, якобы подстрекнувших их отложиться от Клавдия,— он приказал их казнить посреди лагеря у себя на глазах, хотя и знал, что Клавдий за это повысил их в чине. Таким поступком он приобрел славу, но потерял милость; однако вскоре он вернул расположение Клавдия, раскрыв по доносу рабов измену одного римского всадника, замыслившего убить императора. Действительно, сенат почтил его редкою честью — статуей на Палатине, а Клавдий причислил его к патрициям, восхвалял его в самых лестных выражениях и даже воскликнул: «Лучше этого человека я и детей себе желать не могу!» От Альбии Теренции, женщины видного рода, он имел двух сыновей, старшего Луция Тициана и младшего Марка, унаследовавшего отцовское прозвище; была у него и дочь, которую, едва она подросла, он обручил с Друзом, сыном Германика. Император Отон родился в четвертый день до майских календ в консульство Камилла Аррунция и Домиция Агенобарба. С ранней молодости он был такой мот и наглец, что не раз бывал сечен отцом; говорили, что он бродил по улицам ночами и всякого прохожего, который был слаб или пьян, хватал и подбрасывал на растянутом плаще. После смерти отца он подольстился к одной сильной при дворе вольноотпущеннице и даже притворился влюбленным в нее, хотя она и была уже дряхлой старухой. Через нее он вкрался в доверие к Нерону и легко стал первым из его друзей из-за сходства нравов, а по некоторым слухам — и из-за развратной с ним близости. Могущество его было таково, что у одного консуляра, осужденного за вымогательство, он выговорил огромную взятку и, не успев еще добиться для него полного прощения, уже ввел его в сенат для принесения благодарности. Соучастник всех тайных замыслов императора, в день, назначенный для убийства матери Нерона, он, во избежание подозрений, устроил для него и для нее пир небывалой изысканности; а Поппею Сабину, любовницу Нерона, которую тот увел у мужа и временно доверил ему под видом брака, он не только соблазнил, но и полюбил настолько, что даже Нерона не желал терпеть своим соперником. Во всяком случае, говорят, что, когда тот за нею прислал, он прогнал посланных и даже самого Нерона не впустил в дом, оставив его стоять перед дверьми и с мольбами и угрозами тщетно требовать доверенного другу сокровища. Потому-то по расторжении брака Отон был под видом наместничества сослан в Лузитанию. Ясно было, что Нерон не хотел более строгим наказанием разоблачать всю эту комедию; но и так она получила огласку в следующем стишке: Хочешь узнать, почему Отон в почетном изгнание? Сам со своею женой он захотел переспать! Провинцией управлял он в квесторском сане десять лет, с редким благоразумием и умеренностью. Когда же наконец представился случай отомстить, он первый примкнул к начинанию Гальбы. В то же время он и сам возымел немалую надежду на власть — отчасти по стечению обстоятельств, отчасти же по предсказанию астролога Селевка: когда-то он обещал Отону, что тот переживет Нерона, а теперь сам неожиданно явился к нему с вестью, что скоро он станет императором. Поэтому он шел теперь на любые одолжения и заискивания: устраивая обед для правителя, всякий раз одарял весь отряд телохранителей золотом, других солдат привязывал к себе другими способами, а когда кто-то в споре с соседом из-за межи пригласил его посредником, он купил и подарил ему все поле. Вскоре трудно было найти человека, который бы не думал и не говорил, что только Отон достоин стать наследником империи. Сам он надеялся, что Гальба его усыновит, и ожидал этого со дня на день. Но когда тот предпочел ему Пизона и надежды его рухнули, он решил прибегнуть к силе. Кроме обиды, его толкали на это огромные долги: он откровенно говорил, что ежели он не станет императором, то ему все равно, погибнуть ли от врага в сражении или от кредиторов на форуме. За несколько дней до выступления ему удалось вытянуть миллион сестерциев у императорского раба за доставленное ему место управляющего. Эти деньги стали началом всего дела. Сперва он доверился пятерым телохранителям, потом, когда каждый привлек двоих,— еще десятерым. Каждому было дано по десяти тысяч и обещано еще по пятьдесят. Эти солдаты подговорили и других, но немногих: не было сомнения, что едва дело начнется, как многие пойдут за ними сами. Он собирался было тотчас после усыновления Пизона захватить лагерь и напасть на Гальбу во дворце за обедом, но не решился, подумав о когорте, которая несла стражу: она навлекла бы общую ненависть, если бы, покинув в свое время Нерона, позволила теперь убить и Гальбу. А потом еще несколько дней отняли дурные знамения и Предостережения Селевка. Был он, говорят, невысокого роста, с некрасивыми и кривыми ногами, ухаживал за собою почти как женщина, волосы на теле выщипывал, жидкую прическу прикрывал накладными волосами, прилаженными и пригнанными так, что никто о том не догадывался, а лицо свое каждый день, с самого первого пушка, брил и растирал моченым хлебом, чтобы не росла борода; и на празднествах Исиды он при всех появлялся в священном полотняном одеянии. Вот почему, думается, смерть его, столь непохожая на жизнь, казалась еще удивительнее. Многие воины, которые там были, со слезами целовали ему мертвому руки и ноги, величали его доблестным мужем и несравненным императором и тут же, близ погребального костра, умирали от своей руки; многие, которых там и не было, услыхав эту весть, в отчаянии бились друг с другом насмерть. И даже многие из тех, кто жестоко ненавидел его при жизни, стали его превозносить после смерти, как это водится у черни: говорили даже, что Гальбу он убил не затем, чтобы захватить власть, а затем, чтобы восстановить свободу и республику. ВИТЕЛЛИЙ Император Авл Вителлий, сын Луция, родился в консульство Друза Цезаря и Норбана Флакка, в восьмой день до октябрьских календ, а по другим сведениям — в седьмой день до сентябрьских ид. Гороскоп его, составленный астрологами, привел его родителей в такой ужас, что отец его с тех пор неотступно заботился, чтобы сын, хотя бы при его жизни, не получил назначения в провинцию, а мать при вести о том, что он послан к легионам и провозглашен императором, стала оплакивать его как погибшего. В Рим он вступил при звуках труб, в воинском плаще, с мечом на поясе, среди знамен и значков, его свита была в походной одежде, солдаты с обнаженными клинками. Затем, все более и более дерзко попирая законы богов и людей, он в день битвы при Аллии принял сан великого понтифика, должностных лиц назначил на десять лет вперед, а себя объявил пожизненным консулом. И чтобы не оставалось никакого сомнения, кто будет его образцом в управлении государством, он средь Марсова поля, окруженный толпой государственных, жрецов, совершил поминальные жертвы по Нерону, а на праздничном пиру, наслаждаясь рением кифареда, он при всех попросил его исполнить что-нибудь Из хозяина, и когда тот начал песню Нерона, он первый стал ему хлопать, и даже подпрыгивал от радости. Таково было начало; а затем он стал властвовать почти исключительно по прихоти и воле самых негодных актеров и возниц, особенно же — отпущенника Азиатика. Этого юношу он опозорил взаимным развратом; тому это скоро надоело, и он бежал; Вителлий поймал его в Путеолах, где он торговал водой с уксусом, заковал в оковы, тут же выпустил и снова взял в любимчики; потом, измучась его строптивостью и вороватостью, он продал его бродячим гладиаторам, но, не дождавшись конца зрелища и его выхода, опять его у них похитил. Получив назначение в провинцию, он, наконец, дал ему вольную, а в первый же день своего правления за ужином пожаловал ему золотые перстни, хотя еще утром все его об этом просили, а он возмущался мыслью о таком оскорблении всаднического сословия. Но больше всего отличался он обжорством и жестокостью. Пиры он устраивал по три раза в день, а то и по четыре — за утренним завтраком, дневным завтраком, обедом и ужином; и на все его хватало, так как всякий раз он принимал рвотное. В один день он напрашивался на угощение в разное время к фазным друзьям, и каждому такое угощение обходилось не ‘меньше, чем в четыреста тысяч. Самым знаменитым был пир, устроенный в честь его прибытия братом: говорят, на нем было подано отборных рыб две тысячи и птиц семь тысяч. Но сам он затмил и этот пир, учредив такой величины блюдо, что сам называл его «щитом Минервы градодержицы». Здесь были смешаны печень рыбы скара, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго, молоки мурен, за которыми он рассылал корабли и корабельщиков от Парфии до Испанского пролива. Не зная в чревоугодии меры, не знал он в нем ни поры, ни приличия — даже при жертвоприношении, даже в дороге не мог он удержаться; тут же, у алтаря хватал он и поедал чуть ли не из огня куски мяса и лепешек, а по .придорожным харчевням не брезговал и тамошней продымленной снедью, будь то хотя бы вчерашние объедки. Наказывать и казнить кого угодно и за что угодно было для него наслаждением. Знатных мужей, своих сверстников и однокашников, он обхаживал всяческими заискиваниями, чуть ли не делился с ними властью, а потом различными коварствами убивал. Одному он даже своими руками подал отраву в холодной воде, когда тот в горячке попросил пить. Из откупщиков, заимодавцев, менял, которые когда-нибудь взыскивали с него в Риме долг или в дороге пошлину, вряд ли он хоть кого-нибудь оставил в живых. Одного из них он послал на казнь в ответ на приветствие, тотчас потом вернул и, между тем как все восхваляли его милосердие, приказал заколоть его у себя на глазах,— «Я хочу насытить взгляд»,— промолвил он. За другого просили двое его сыновей, он казнил их вместе с отцом. Римский всадник, которого тащили на казнь, крикнул ему: «Ты мой наследник!» — он велел показать его завещание, увидел в нем своим сонаследником вольноотпущенника и приказал казнить всадника вместе с вольноотпущенником. Несколько человек из простонародья убил он только за то, что они дурно отзывались о «синих» в цирке: в этом он увидел презрение к себе и надежду на смену правителей. Но больше всего он злобствовал против насмешников и астрологов и по первому доносу любого казнил без суда: его приводило в ярость подметное письмо, появившееся после его эдикта об изгнании астрологов из Рима и Италии к календам октября: «В добрый час, говорят халдеи! а Вителлию Германику к календам октября не быть в живых». Подозревали его даже в убийстве матери: думали, что он во время болезни не давал ей есть, потому что женщина из племени хаттов, которой он верил, как оракулу, предсказала ему, что власть его лишь тогда будет твердой и долгой, если он переживет своих родителей. А другие рассказывают, будто она сама, измучась настоящим и страшась будущего, попросила у сына яду и получила его без всякого труда. Погиб он вместе с братом и сыном на пятьдесят восьмом году жизни. И не обманулись в догадках те, кто по вещему случаю в Виенне, нами уже упомянутому, предрекли ему попасть в руки какого-то человека из Галлии: в самом деле, погубил его Антоний Прим, неприятельский полководец, родом из Толозы, которого в детстве звали «Беккон», что означает «петуший клюв». БОЖЕСТВЕННЫЙ ВЕСПАСИАН Веспасиан родился в земле сабинов, близ Реате в деревушке под названием Фалакрины, вечером в пятнадцатый день до 1 декабрьских календ, в консульство Квинта Сульпиция Камерина и Гая Поппея Сабина, за пять лет до кончины Августа. Рос он под ^надзором Тертуллы, своей бабки по отцу, в ее поместье близ Козы. Уже став правителем, он часто посещал места своего детства: виллу он сохранял в прежнем виде, чтобы все, к чему привык его взгляд, оставалось нетронутым. А память бабки чтил он так, что на праздниках и торжествах всегда пил только из ее серебряного кубка. После Нерона, когда за власть боролись Гальба, Отон и Вителлий, у него явилась надежда стать императором. Внушена она была ему еще раньше, и вот какими знаменьями. В загородном имении Флавиев был древний дуб, посвященный Марсу, и все три раза, когда Веспасия рожала, на стволе его неожиданно вырастали новые ветви — явное указание на будущее каждого младенца. Первая была слабая и скоро засохла — и действительно, родившаяся девочка не прожила и года; вторая была крепкая и длинная, что указывало на большое счастье; а третья сама была как дерево. Поэтому, говорят, отец его Сабин, ободренный вдобавок и гаданием, прямо объявил своей матери, что у нее родился внук, который будет цезарем, но та лишь расхохоталась на это и подивилась, что она еще в здравом уме, а сын ее уже спятил. Потом, когда он был эдилом, Гай Цезарь рассердился, что он не заботится об очистке улиц, и велел солдатам навалить ему грязи за пазуху сенаторской тоги; но нашлись толкователи, сказавшие, что так когда-нибудь попадет под его зашиту и как бы в его объятия все государство, заброшенное и попранное в междоусобных распрях. Щедр он был ко всем сословиям: сенаторам пополнил их состояния, нуждавшимся консулярам назначил по пятьсот тысяч сестерциев в год, многие города по всей земле отстроил еще лучше после землетрясений и пожаров, о талантах и искусствах обнаруживал величайшую заботу. Латинским и греческим риторам он первый стал выплачивать жалованье из казны по сто тысяч в год; выдающихся поэтов и художников, как, например, восстановителя Колосса и Венеры Косской, он наградил большими подарками; механику, который обещался без больших затрат поднять на Капитолий огромные колонны, он тоже выдал за выдумку хорошую награду, но от услуг отказался, промолвив: «Уж позволь мне подкормить мой народец». На зрелищах при освящении новой сцены в театре Марцелла он возобновил даже старинные представления. Трагическому актеру Апелларию он дал в награду четыреста тысяч сестерциев, кифаредам Терпну и Диодору — по двести тысяч, другим — по сотне тысяч, самое меньшее — по сорок тысяч, не говоря о множестве золотых венков. Званые пиры он также устраивал частые и раскошные, чтобы поддержать торговцев съестным. На Сатурналиях он раздавал подарки мужчинам, а в мартовские календы — женщинам. Все же загладить позор былой своей скупости ему не удалось. Александрийцы неизменно называли его селедочником, по прозвищу одного из своих царей, грязного скряги. И даже на его похоронах Фавор, главный мим, выступая, по обычаю, в маске и изображая слова и дела покойника, во всеуслышанье спросил чиновников, во сколько обошлось погребальное шествие? И услышав, что в десять миллионов, воскликнул: «Дайте мне десять тысяч и бросайте меня хоть в Тибр!» Роста он был хорошего, сложения крепкого и плотного, с натужным выражением лица: один остроумец метко сказал об этом, когда император попросил его пошутить и над ним: «Пошучу, когда опорожнишься». Здоровьем он пользовался прекрасным, хотя ничуть о том не заботился, и только растирал сам себе в бане горло и все члены, да один день в месяц ничего не ел. Образ жизни его был таков. Находясь у власти, вставал он всегда рано, еще до свету, и прочитывал письма и доклады от всех чиновников; затем впускал друзей и принимал их приветствия, а сам в это время одевался и обувался. Покончив с текущими делами, он совершал прогулку и отдыхал с какой-нибудь из наложниц: после смерти Цениды у него их было много. Из спальни он шел в баню, а потом к столу: в это время, говорят, был всего добрее и мягче, и домашние старались этим пользоваться, если имели какие-нибудь просьбы. Даже страх перед грозящей смертью не остановил его шуток: когда в числе других предзнаменований двери Мавзолея вдруг раскрылись, а в небе появилась хвостатая звезда, он сказал, что одно знаменье относится к Юнии Кальвине из рода Августа, а другое — к парфянскому царю, который носит длинные во косы; когда же он почувствовал приближение смерти, то промолвил: «Увы, кажется, я становлюсь богом». В девятое свое консульство он,, находясь в Кампании, почувствовал легкие приступы лихорадки. Тотчас он вернулся в Рим, а потом отправился в Кутилии и в реатинские поместья, где обычно проводил лето. Здесь недомогание усилилось, а холодной водой он вдобавок застудил себе живот. Тем не менее он продолжал, как всегда, заниматься государственными делами и, лежа в постели, даже принимал послов. Когда же его прослабило чуть не до смерти, он заявил, что император должен умереть стоя; и, пытаясь подняться и выпрямиться, он скончался на руках поддерживавших его в девятый день до июльских календ, имея от роду шестьдесят девять лет, один месяц и семь дней. Всем известно, как твердо он верил всегда, что родился и родил сыновей под счастливой звездой; несмотря на непрекращавшиеся заговоры, он смело заявлял сенату, что наследовать ему будут или сыновья, или никто. Говорят, он даже видел однажды во сне, будто в сенях Палатинского дворца стоят весы, на одной их чашке — Клавдий и Нерон, на другой — он с сыновьями, и ни одна чашка не перевешивает. И сон его не обманул, потому что те и другие правили одинаковое время — ровно “только же лет. БОЖЕСТВЕННЫЙ Т И Т Тит, унаследовавший прозвище отца, любовь и отрада рода человеческого, наделенный особенным даром, искусством или счастьем снискать всеобщее расположение,— а для императора это было нелегко, так как и частным человеком и в правление отца не избежал он не только людских нареканий, но даже и ненависти,— Тит родился в третий день до январских календ, в год памятный гибелью Гая, в бедном домишке близ Септизония, в темной маленькой комнатке: она еще цела и ее можно видеть. Воспитание он получил при дворе, вместе с Британиком, обучаясь тем же наукам и у тех же учителей. В эту пору, говорят, Нарцисс, вольноотпущенник Клавдия, привел одного физиогнома, чтобы осмотреть Британика, и тот решительно заявил, что Британик никогда не будет императором, а Тит, стоявший рядом, будет. Были они такими друзьями, что, по рассказам, даже питье, от которого умер Британик, пригубил и Тит, лежавший рядом, и после того долго мучился тяжкой болезнью. Памятуя обо всем этом, он впоследствии поставил Британику на Палатине статую из золота и посвятил ему в свеем присутствии другую, конную, из слоновой кости, которую и по сей день выносят в цирке во время шествия. Телесными и душевными достоинствами блистал он еще в отрочестве, а потом, с летами, все больше и больше: замечательная красота, в которой было столько же достоинства, сколько приятности; отменная сила, которой не мешали ни невысокий рост, ни слегка выдающийся живот; исключительная память и, наконец, способности едва ли не ко всем военным и мирным искусствам. Конем и оружием он владел отлично; произносил речи и сочинял стихи по- латыни и по-гречески с охотой и легкостью, даже без подготовки; был знаком с музыкой настолько, что пел и играл на кифаре искусно и красиво. Многие сообщают, что даже писать скорописью умел он так проворно, что для шутки и потехи состязался со своими писцами, а любому почерку подражал так ловко, что часто восклицал: «Какой бы вышел из меня подделыватель завещаний!» От природы он отличался редкостной добротой. Со времен Тиберия все цезари признавали пожалования, сделанные их предшественниками, не иначе как особыми соизволениями,— он первый подтвердил их сразу, единым эдиктом, не заставляя себя просить. Непременным правилом его было никакого просителя не отпускать, не обнадежив; и когда домашние упрекали его, что он обещает больше, чем сможет выполнить, он ответил: «Никто не должен уходить печальным после разговора с императором». А когда однажды за обедом он вспомнил, что за целый день никому не сделал хорошего, то произнес свои знаменитые слова, памятные и достохвальные: «Друзья мои, я потерял день!» К простому народу он всегда был особенно внимателен. Однажды, готовя гладиаторский бой, он объявил, что устроит его не по собственному вкусу, а по вкусу зрителей. Так оно и было: ни в какой просьбе он им не отказывал и сам побуждал их просить, что хочется. Сам себя он объявил поклонником гладиаторов-фракийцев, из-за этого пристрастия нередко перешучивался с народом и словами и знаками, однако никогда не терял величия и чувства меры. Даже купаясь в своих банях, он иногда впускал туда народ, чтобы и тут не упустить случая угодить ему. Его правления не миновали и стихийные бедствия: извержение Везувия в Кампании, пожар Рима, бушевавший три дня и три ночи, и моровая язва, какой никогда не бывало. В таких и стольких несчастиях обнаружил он не только заботливость правителя, но и редкую отеческую любовь, то утешая народ эдиктами, то помогая ему в меру своих сил. Для устроения Кампании он выбрал попечителей по жребию из числа консуляров; безнаследные имущества погибших под Везувием он пожертвовал в помощь пострадавшим городам. При пожаре столицы он воскликнул: «Все убытки — мои!» — и все убранство своих усадеб отдал на восстановление построек и храмов, а для скорейшего совершения работ поручил их нескольким распорядителям из всаднического сословия. Для изгнания заразы и борьбы с болезнью изыскал он все средства, божеские и человеческие, не оставив без пробы никаких жертвоприношений и лекарств. Скончался он на той же вилле, что и отец, в сентябрьские иды, на сорок втором году жизни, спустя два года, два месяца и двадцать дней после того, как он наследовал отцу. Когда об этом стало известно, весь народ о нем плакал, как о родном, а сенат сбежался к курии, не дожидаясь эдикта, и перед закрытыми, а потом и за открытыми дверями воздал умершему такие благодарности и такие хвалы, каких не приносил ему даже при жизни и в его присутствии. ДОМИЦИАН Домициан родился в десятый день до ноябрьских календ, когда отец его был назначенным консулом и должен был в следующем месяце вступить в должность; дом, где он родился, на Гранатовой улице в шестом квартале столицы, был им потом обращен в храм рода Флавиев. Детство и раннюю молодость провел он, говорят, в нищете и пороке: в доме их не было ни одного серебряного сосуда, а бывший претор Клодий Поллион, на которого Нероном написано стихотворение «Одноглазый», хранил и изредка показывал собственноручную записку Домициана, где тот обещал ему свою ночь; некоторые вдобавок утверждали, что его любовником был и Нерва, будущий его преемник. Его управление государством некоторое время было неровным: достоинства и пороки смешивались в нем поровну, пока, наконец, сами достоинства не превратились в пороки — можно думать, что вопреки его природе жадным его сделала бедность, а жестоким — страх. Зрелища он устраивал постоянно, роскошные и великолепные, и не только в амфитеатре, но и в цирке. Здесь, кроме обычных состязаний колесниц четверкой и парой, он представил два сражения, пешее и конное, а в амфитеатре еще и морское. Травли и гладиаторские бои показывал он даже ночью при факелах, и участвовали в них не только мужчины но и женщины. На квесторских играх, когда-то вышедших из обычая и теперь возобновленных, он всегда присутствовал сам и позволял народу требовать еще две пары гладиаторов из его собственного училища: они выходили последними и в придворном наряде. На всех гладиаторских зрелищах у ног его стоял мальчик в красном и с удивительно маленькой головкой; с ним он болтал охотно и не только в шутку: слышали, как император его спрашивал, знает ли он, почему при последнем распределении должностей наместником Египта был назначен Меттий Руф? В начале правления всякое кровопролитие было ему ненавистно: еще до возвращения отца он хотел эдиктом запретить приношение в жертву быков, так как вспомнил стих Вергилия: Как нечестивый народ стал быков заклать себе в пищу... Не было в нем и никаких признаков алчности или скупости, как до его прихода к власти, так и некоторое время позже: напротив, многое показывало, и не раз, его бескорыстие и даже великодушие. Однако такому милосердию и бескорыстию он оставался верен недолго. При этом жестокость обнаружил он раньше, чем алчность. Ученика пантомима Париса, еще безусого и тяжело больного, он убил, потому что лицом и искусством тот напоминал учителя. Гермогена Тарсийского за некоторые намеки в его «Истории» он тоже убил, а писцов, которые ее переписывали, велел распять. Отца семейства, который сказал, что гладиатор-фракиец не уступит противнику, а уступит распорядителю игр, он приказал вытащить на арену и бросить собакам, выставив надпись: «Щитоносец — за дерзкий язык». После междоусобной войны свирепость его усилилась еще более. Чтобы выпытывать у противников имена скрывающихся сообщников, он придумал новую пытку: прижигал им срамные члены, а некоторым отрубал руки. Как известно, из видных заговорщиков помилованы были только двое, трибун сенаторского звания и центурион: стараясь доказать свою невиновность, они притворились порочными развратниками, презираемыми за это и войском и полководцем. Свирепость его была не только безмерной, но к тому же изощренной и коварной. Управителя, которого он распял на кресте, накануне он пригласил к себе в опочивальню, усадил на ложе рядом с собой, отпустил успокоенным и довольным, одарив даже угощеньем со своего стола. Аррецина Клемента, бывшего консула, близкого своего друга и соглядатая, он казнил смертью, но перед этим был к нему милостив не меньше, если не больше, чем обычно, и в последний его день, прогуливаясь с ним вместе и глядя на доносчика, его погубившего, сказал: «Хочешь, завтра мы послушаем этого негодного раба?» Росту он был высокого, лицо скромное, с ярким румянцем, глаза большие, но слегка близорукие. Во всем его теле были красота и достоинство, особенно в молодые годы, если не считать того, что пальцы на ногах были кривые; но впоследствии лысина, выпяченный живот и тощие ноги, исхудавшие от долгой болезни, обезобразили его. Он чувствовал, что скромное выражение лица ему благоприятствует, и однажды даже похвастался в сенате: «До сих пор, по крайней мере, вам не приходилось жаловаться на мой вид и нрав...» Зато лысина доставляла ему много горя, и если кого-нибудь другого в насмешку или в обиду попрекали плешью, он считал это оскорблением себе. Он издал даже книжку об уходе за волосами, посвятив ее другу, и в утешение ему и себе вставил в нее такое рассуждение: «Видишь, каков я и сам красив и величествен видом? — А ведь мои волосы постигла та же судьба! Но я стойко терплю, что кудрям моим суждена старость еще в молодости. Верь мне, что ничего нет пленительней красоты, но ничего нет и недолговечней ее». Утомлять себя он не любил: недаром он избегал ходить по городу пешком, а в походах и поездках редко ехал на коне, и чаще в носилках. С тяжелым оружием он вовсе не имел дела, зато стрельбу из лука очень любил. Многие видели не раз, как в своем Альбанском поместье он поражал из лука по сотне Накануне гибели ему подали грибы; он велел оставить их на завтра, добавив: «Если мне суждено их съесть»; и обернувшись к окружающим, пояснил, что на следующий день Луна обагрится кровью в знаке Водолея, и случится нечто такое, о чем будут говорить по всему миру. Наутро к нему привели германского гадателя, который на вопрос о молнии предсказал перемену власти; император выслушал его и приговорил к смерти.. Почесывая лоб, он царапнул по нарыву, брызнула кровь: «Если бы этим и кончилось!» — проговорил он. Потом он спросил, который час; был пятый, которого он боялся, но ему нарочно сказали, что шестой. Обрадовавшись, что опасность миновала, он поспешил было в баню, но спальник Парфений остановил его, сообщив, что какой-то человек хочет спешно сказать ему что-то важное. Тогда, отпустивши всех, он вошел в спальню и там был убит. О том, как убийство было задумано и выполнено, рассказывают так. Заговорщики еще колебались, когда и как на него напасть — в бане или за обедом; наконец, им предложил совет и помощь Стефан, управляющий Домициллы, который в это время был под судом за растрату. Во избежание подозрения он притворился, будто у него болит левая рука, и несколько дней подряд обматывал ее шерстью и повязками, а к назначенному часу спрятал в них кинжал. Обещав раскрыть заговор, он был допущен к императору; и пока тот в недоумении читал его записку, он нанес ему удар в пах. Раненый пытался сопротивляться, но корникуларий Клодиан, вольноотпущенник Парфения Максим, декурион спальников Сатур и кто-то из гладиаторов набросились на него и добили семью ударами. При убийстве присутствовал мальчик-раб, обычно служивший спальным ларам: он рассказывал, что при первом ударе Домициан ему крикнул подать из-под подушки кинжал и позвать рабов, но под изголовьем лежали только пустые ножны, и все двери оказались на запоре; а тем временем император, сцепившись со Стефаном, долго боролся с ним на земле, стараясь то вырвать у него кинжал, то выцарапать ему глаза окровавленными пальцами. Погиб он в четырнадцатый день до октябрьских календ, на сорок пятом году жизни и пятнадцатом году власти. Тело его на дешевых носилках вынесли могильщики. Филлида, его кормилица, предала его сожжению в своей усадьбе по Латинской дороге, а останки его тайно принесла в храм рода Флавиев и смешала с останками Юлии, дочери Тита, которую тоже выкормила она. 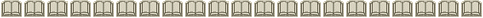 |
Рекомендуем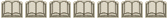 ОБЪЯВЛЕНИЯ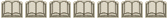 |
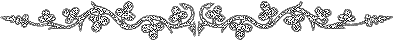
 Знание — сила. Библиотека научных работ.
Знание — сила. Библиотека научных работ.